Рифма к слову лестница

Днем меня крик и гудки оглушают, вечером слепну от плещущих фар. И воды большие любви не затушат, и реки её затопить не сумеют. И даже мой крик замёрз. Эта тема сейчас и молитвой у Будды и у негра вострит на хозяев нож.
Придумывание загадокможно проводить и в форме игры: «Да — нет». Это ледокол, он колет толстые льды и проводит корабли. Что это? Воспитатель: - Ребята, правильно Рифмоплёт составил загадку? Воспитатель: - Посмотрите на картинки и попытайтесь сочинить свою загадку. Дети: - Эта машина работает на стройке. У него есть длинная рука - стрела. Он поднимает на этажи, кирпичи, панели. Может разгружать и погружать тяжелые грузы. Подъемный кран. Воспитатель: А теперь послушайте загадкув стихотворной форме:.
Дети: - Это наземный транспорт. Этой машине, освобождают дорогу на улице все остальные машины, на кузове изображен красный крест. Машина спешит на помощь больному. Скорая помощь. Воспитатель: А теперь моя загадка: Вот с крестом машина мчится,. Дети: - Эта машина большая, красного цвета. У нее есть раздвижная лестница, бак с водой, длинные шланги.
Она тушит пожары. Пожарная машина. Воспитатель: И про эту машину у меня есть загадка,послушайте: Полыхает дом. Рифмоплёт: Можно я загадаю свою загадку? У нее есть руль, фары, кабина, бак. Воспитатель: - Ребята, мы можем точно определить, какой это транспорт? Где ошибся Рифмоплёт? Рифмоплёт: - Простите, я забыл сказать, она перевозит бензин. Воспитатель: - Молодец, Рифмоплёт, сам исправил, уточнил.
За это я и твоей машине подарю загадку в стихах:. Рифмоплёт: Мне очень понравились загадки в стихах. Давайте придумаем загадку все вместе про полицейскую машину! В: Хорошо, Рифмоплет. Я предлагаю тебе тогда поиграть в игру «Продолжалка». В: - Я буду читать стихотворную строку, а вы продолжите дальше в рифму. Дети: И за нарушителем помчится сразу придумывание рифмы детьми.
Наша обычная пунктуация с точками, с запятыми, вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и маловыразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение. Правда, некоторые восприняли методику Маяковского как коммерческий ход. Существовало мнение, что в некоторых изданиях платили не за количество знаков, а за количество строк. Злые языки обвиняли Маяковского в погоне за экономической выгодой.
Так, в феврале года во время выступления в Одессе один из слушателей-студентов напрямую спросил Маяковского. В зале раздался гомерический хохот. Маяковский серьезно ответил: — Правда. К сожалению, всего рубль. Тут же поднялся такой хохот, что несколько минут публика не могла успокоиться. Это пошлость. Говорят, мои стихи малопонятны, трудны. Одно из двух: либо я плохой поэт, либо вы плохие читатели. А так как я поэт хороший, то выходит, что вы плохие читатели… — Что такое?
Вот и всё. Я дроблю строчку вот почему. Лев Коган. Позднее маяковскую «лесенку» взяли на вооружение другие поэты: Роберт Рождественский , Евгений Евтушенко , Андрей Вознесенский и другие. Фотография: e-kazan. И ты боишься: где-то есть другая. Сидим в шуршащей темноте ночной, и уплывает коврик под ногами.
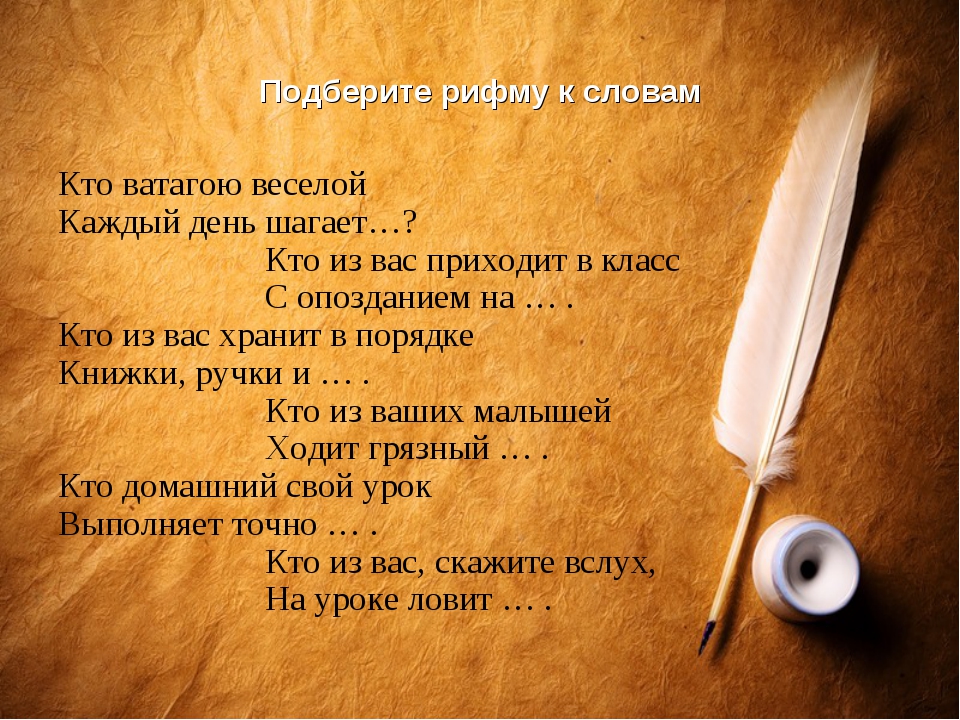
Так что же было? Ах, ночь, ты с памятью разъединила нас, но только вместе не соединила. Согласье мы запомним, но отказ мы, словно оправданье, не забыли. Но есть слова: Бог дал — и он же взял, утешишься когда-нибудь с другой. Но есть слова: живи-ка без души, забудь, как щеки милой розовели. Но есть слова: грядущее воспой, кончиною минувшего разбужен.
Ожог прикосновенья зажил. Завяла нерасцветшая заря. Была ли, не было ль пропажи? Ведь двор-то есть, да не растёт трава.
Мы ехали в одном купе, и были билеты разные — судьба одна. Вы что-то тихо говорили, и мне казалось: вы — Она. Вы говорили о погоде, о скуке вроде, о делах, и понял я: от вас уходят, хоть вы твердите о друзьях. Я отвечал, что тоже знаю ненужный плен среди чужих, что постоянно уезжаю и не уеду всё от них,. Живой ожог на трупе зажил. Всё промелькнёт, как промелькнули вы. И двор есть, и дрова есть даже,-.
Скажу, забыв мечты и страхи: мне всё равно — я ей скажу. Звезда горит, но не дано мне снова видеть сон бессонный. В глуши или в первопрестольной всё тело каждой клеткой стонет, вторит душе: мне всё равно.
Не заходи в моё окно, звезда дрожащая, чужая, будь чья-нибудь, тому сияя, кто музыке твоей внимает. Не надо — мне. Мне — всё равно. Мне чистого чего-то не хватает: разбавлен я, разбавлен мною мир, расплавлен я, раздавлен — и не знаю, кто виноват, что стал скупцом транжир.
Разбавлены мечты водою разума, а к цели, как сироп, подлит обман. Нет главного — есть только много разного. Как рвусь из этой мерзкой западни! Когда ж они уйдут, поставив точку, — все смутные, расплавленные ночи, все мутные, разбавленные дни!
Что полночь, что град но ошибке? А если луна — не та, а если не та — улыбка, и только та — пустота? Что делать — ошибся миром: живу не в своём, а в чужом?
Закрыть поплотнее квартиру и тихо поплакать с дождём? Так может, и я — ошибка, а истина — лишь пустота? Задыхаемся на воздухе, жаждем после лимонада.
Там, где счастье было пьяное — на похмелье лишь досада. Ищем, где давно всё найдено, ждём того, что уж пропало. И мгновения нам много, и всей жизни очень мало. И уж тронет, понесётся вкривь и вкось, куда попало — где скопилось смерти много, где осталось жизни мало. Понесёт нас по ухабам, по заезженной дороге… Так налейте посошок нам, не спешите, ради Бога! Посидим — таков обычай.
Выпьем снова, в самом деле! Впереди у нас дорога, а за нею — мрак похмелья. А не проще ли на саночках закатиться вечерком, где березы, словно дамочки, — не остаться ли вдвоём? Дома же, под печки шёпот, уж пройдёт наверняка непонятная, как вздох твой, моя тёмная тоска. И дождь осенний тоже мил: причастен я к его усталости. Всё на потом я отложил — всё, что останется. Благословенны утро и печаль, и ночь с бессонницей, и жизнь, и тёплый каравай, и всё, что помнится. Благословенны сон и ворожба, лес, небо и моя усталость, благословенны дружба и вражда — всё, что осталось.
Свинцовый дождь на плечи давит, и с ног сбивает ветер злой. Мороз грызёт, кусает, жалит… Спешу скорей к себе домой. Открою дверь — увижу кухню: и сырость там, и неуют.
А в комнате опять докучно со скрипом ходики идут. Отмщенье — не прощение. Всегда так было, и так есть, и снова будет. Пройдут века и утечёт вода — забывчивы, добры не станут люди. И будет кровь за кровь и месть за месть, круговорот бесчинств и преступлений, и ни любовь, ни новь, ни всё, что есть, пожалуй, ничего здесь не изменят. Природа же — иное.
И когда корежился металл и сталь трещала, когда я вынес сына из стекла разбитого и гнутого металла — в природу вера всё-таки была, но час пришёл — и вот её не стало.
Прощения просил — я ведь не мстил. А ты, природа, ты мне отомстила: меня и тех, кто дорог мне и мил, сурово ты тогда предупредила. И ни к чему смятение моё, и я не попрошу теперь прощенья: всё то, что ты даёшь или берёшь, и смертью может стать, и стать цветеньем.
Птицы дремлют без него, звёздочка дрожит. Вырастешь — спроси её: — Звёздочка, скажи, как твоё житьё-бытьё, почему дрожишь?
Всё вокруг давно уж спит. Милый мой, усни. Мишка, что с тобой лежит, видит уже сны. Вырастешь — спроси его: — Как ты, мишка, спал? И скажи мне, отчего ты во сне вздыхал? Спи, мой маленький сынок. Я пока не сплю и от ветра и тревог дом наш берегу. Вырастешь — спроси меня: — Почему не спал? И о чём ты у окна. Я с детских лет любил играть.
Играл в машины, гаражи, цари, солдаты и пажи, — узнав, что я люблю играть, мне стали роли поручать. Играл я школьника пока, потом студента-пошляка, потом — философа, супруга, поэта с этой ролью — туго , влюблённого в детей учителя и, наконец, руководителя. Я вспоминаю — битое стекло, обрывок стона, сырую комнату, больного малыша… О, как он тянется, круша и не спеша — мой год Дракона! Дракона год — год похоронных звонов, тысячеглавый, скользкий, страшный год. Когда-нибудь по мне свечу зажжет мой год Дракона.
На этом не остановлюсь в безверии бессонном, и обвиняет век моя душа… О, как он тянется, круша и не спеша — мой век Дракона! Когда поставят камень над плитой могильной, и деревья, некогда посаженные мной, засохнут — то поверье сбудется, речённое от века: сын, дом и дерево — плоды от человека.

Проходит земная слава, но — новый Агасфер — я тут, где гордый холодный Бештау и где экзотичный Машук. Здесь звёзды и звонче, и ярче, здесь снежный Эльбрус вдалеке, и всё же какой-то утрачен трагический пульс на виске.
Над больною фантазией зимнего леса идиотски-тупая восходит луна. Замирает душа от внезапного треска, замирает, тоскою и болью полна. Исповедуюсь женщине, пеленающей сына, исповедуюсь песне обвиняемой, но невинной. От любви защищен я надёжно: круг людей, обязательства, нормы… Я живу на земле осторожно — стал давно терпелив, умудрённый. Подари мне свою устремлённость, чтобы долготерпенье иссякло!
Говорим мы не много — не мало, каждый жест наш продуман, рассчитан. Подари мне свою беззащитность, чтоб моя защищённость пропала! Ждём, что солнце лучами в нас брызнет. Нам борьба за блаженство — кощунство. Подари же мне мудрость безумства, чтоб исчезла пресыщенность жизнью!
Только мы трое не спим: вечно бессонное море, ты, дорогая моя, и, очарованный, я. В этой полночной тиши все мы мечтаем о разном: Я — о бессонной любви, море — о сне до утра. Только не знаю, о чем ты, моя радость, мечтаешь — может, о грезах любви, может, о сладостном сне? И размышляю я: как странны законы природы — внятно нам всё на земле, кроме любимых сердец.
Как случилось, что вечно со мною ты всегда и повсюду, хоть ты так давно уже стала звездою, что в созвездьях тебя не найти?
А созвездие певчих молекул, составляющих тело твоё, светит ночью тому человеку, кто женой эти звёзды зовёт.
Я люблю не молекулы — звёзды. Пусть уверен материалист, что любимые, как паровозы, Из молекул на свет родились, —. И пусть далеко ты, но ты рядом и вечно со мной: одному — только мёртвые ноты, а другому — звук тёплый, живой.
Ты, скорее, не мать, а отец. Ты навек был пленён Византией, ее веры восприняв венец. И как сын ощущаю в крови я капли крови холодной твоей вместе с жаркою кровью России, что досталась от двух матерей. Расстаюсь я с тобою, отец мой, свою голову низко склонив. И надолго останутся в сердце византийские очи твои. За окном вагона — серый скучный день.
Там — тоска перронов, мука деревень. В пустынном и диком, безмолвном краю источник в песках появился. Измученный странник здесь рану свою водой оросил — и напился. И — чудо! Вода из источника звонко течёт, на солнце искрясь и блистая, а в небе чудесную песню поёт какая-то птица степная.
И странник продолжил свой тягостный путь, святою водой ободрённый, уверенный в том, что, пройдя лишь чуть-чуть, он встретит оазис зеленый. Ты в сердце моём безраздельно царишь, зовёшь меня и отвергаешь, то нежно, то гневно в глаза мне глядишь и жалуешь или караешь.
Твой чистый напиток — источник в степи, в пустыне бесплодной и мглистой. Так дай же мне встретить ещё на пути источник божественно чистый! Но если уж путником не суждено мне быть — то вели превратиться в ту птицу, что рядом с тобою давно — в чудесную певчую птицу! И пусть не иссякнет источник любви, чтоб странников влагой чудесной источник не раз ещё мог оживить. Дай мне тепла! Прошу смиренно, прошу колено преклоненно.
Душа — как будто из стекла. Дай хоть чуть-чуть: хоть ночь, хоть вечер, хоть огонек случайной встречи, хоть что-нибудь пообещай. Тепла мне дай! Дай мне тепла. Ты видишь — мёрзну. Из сердца метеором звёздным душа, как слёзы, истекла. Дай хоть чуть-чуть. Дай ночь святую. Сердитый рок опять колдует под хохот всех вороньих стай.
Переводя Шекспировы сонеты, писал я, что любовь тогда сильней, когда уж догорает жизни лето, и осень всё темней и холодней. Пусть это так. Я десять лет с тобою, и за Шекспиром смело повторю, что я, уже расставшийся с зарёю, тебя, словно юнец, боготворю. Теперь, когда наш полдень наступает, моя любовь, как солнце в вышине, светя тебе, и греет, и ласкает, чтоб ты не забывала обо мне. Пусть вечером светило спать уходит: настанет вечер, но согреет вновь, как прежде, в наши солнечные годы, тебя моя бессмертная любовь.
Она теперь сильнее, чем в начале, она теперь спокойней и нежней. И в радости, и в муке, и в печали да будет путь твой вечно рядом с ней! Она уже бессмертна, словно боги. Когда же ты, любимая, пройдёшь тебе отмеренную часть дороги — в моей любви ты снова оживёшь. Давай нальем по рюмке водки на кухне, где всегда уют, где мы перебираем чётки часов, столетий и минут. Давай, дружище, выпьем малость печали, водки и любви,.
Давай болтать за сигаретой о ценах, женах и Гюго, ведь всё равно — и до рассвета нам не пересказать всего. Как я люблю такие бденья, когда не смотрят на часы, когда слова и откровенья срываются дождем косым,. Под фиолетовым дождем — тоска.
Кого хоронит осень — знай поди! Вот набросала листьев, как песка,. Слетают листья — как их не топтать? А осень грязным золотом ковер. Надолго дождь застрял, как в горле ком,. Я под огромным траурным зонтом. Араб воспел вино. Зачем же, чтя Коран, другой араб отверг сей сладостный обман? Аль-Маари мы чтим, Абу-Нуваса чтим,- но вовсе не за то, кто пьян и кто не пьян. Кто направляет точно в цель стрелу, кто в тонкостях ее полёт изучит, кто усмиряет злую тетиву — воистину тот настоящий лучник.
Кто дерево искусством покорил, и вот бревну бездушному придётся являть собой обитель горних сил — воистину тот плотником зовётся. Смиряют стрелы, волю их губя, и реку, и бревно смиряют люди. Но есть мудрец, смиряющий себя — воистину мудрее всех он будет. Коль рана на руке — несущий яд мгновенно изойдёт в предсмертном стоне. Но никакие яды не вредят, коль раны нет и коль чисты ладони. Как изощрённа и непостижима, как бестелесна мысль, что вдалеке блуждает и всегда проходит мимо.
И разве тот, чья мысль нестойка, мудр? В той мысли страх, а истина и вера колеблются, как пламя на ветру: нет мудрости, где страх царит безмерный.
Что же будет мудрей? Вброд через речку еду лунной и ясной ночью. Бык осторожно ступает, брызги вздымая, точно некий кристалл разбивая. Но и сама вечноюная тоже подвластна сей страсти,. И, подчиняясь ему, полюбила охоту Киприда,. Ловко собаки Адониса подняли страшного зверя,. А Афродита, узнавшая вмиг о несчастье великом,. Там же, где капли божественной крови Киприды остались, пышные розы взошли, красные, словно та кровь.
Тот, кто Аид очаровывал песней своей чудотворной, ради возлюбленной пел мрачным подземным богам —. Скорбью безмерной объят наш сладкогласый Орфей. Канули годы унылые в Лету, но верен жене он: пусть Эвридика ушла — не иссякает любовь. Птицы слетелись и дикие звери столпились, покинув горы, леса и поля, — рядом с Орфеем-певцом.
Даже деревья придвинулись, слушая грустную песню: замерли ветви на них, не шевелилась листва. Женщины вдруг появились, справлявшие празднество Вакха — громкие крики слышны, звуки тимпанов и флейт. Бросила тирс, чтоб Орфея убить, эта дерзкая дева, бросила камень в него, чтобы Орфея убить. Но, побеждённый чарующим пением, камень покорно рядом с Орфеем упал, лёг, усмирённый, у ног. Голос, взывающий к ним о пощаде, не слышат вакханки — голос, который смирил камни, богов и зверей.
И, окровавленный, рухнул певец, расставаясь с душою. Плач тут печальный послышался: плакали птицы и звери, реки, деревья, цветы, скалы, и море, и твердь. Тот, кто созвездие Лиры увидит на траурном небе —. Где угрюмый камень скрывает пена, словно плащ невесты на мертвом теле, на скале Левкадской у брега моря —. Что здесь делать стройной, фиалкокудрой, развернуть чью сполу и бог хотел бы? Что случилось вдруг у Сафо прекрасной,. Что здесь делать той, кто милей Елены?
Неужели так же, как смертным людям, разрывают ей сердце ревность злая,. Та, чей нежный голос — ручей аркадский, чьи глаза — как звёзды ночей лесбийских, чьи уста других обращали в рабство —. И Сафо, унижена этим рабством, рабством страсти, данной ей Афродитой, средство ищет здесь от любви несчастной.
Видишь, Фаон, волны о скалы бьются? Иная скачка мне дороже по всему — дорогой не прямою и не пыльной, чтоб приближался к нам Олимп — не мы к нему, чтоб небеса к нам плавно нисходили…. Но стал приятен мне и этот юный пыл, хоть в небесах мы слишком рано были. Ее объезжу я, как раньше приручил лошадок, что в Олимп меня возили. Уж если дал вино нам Дионис — пейте!
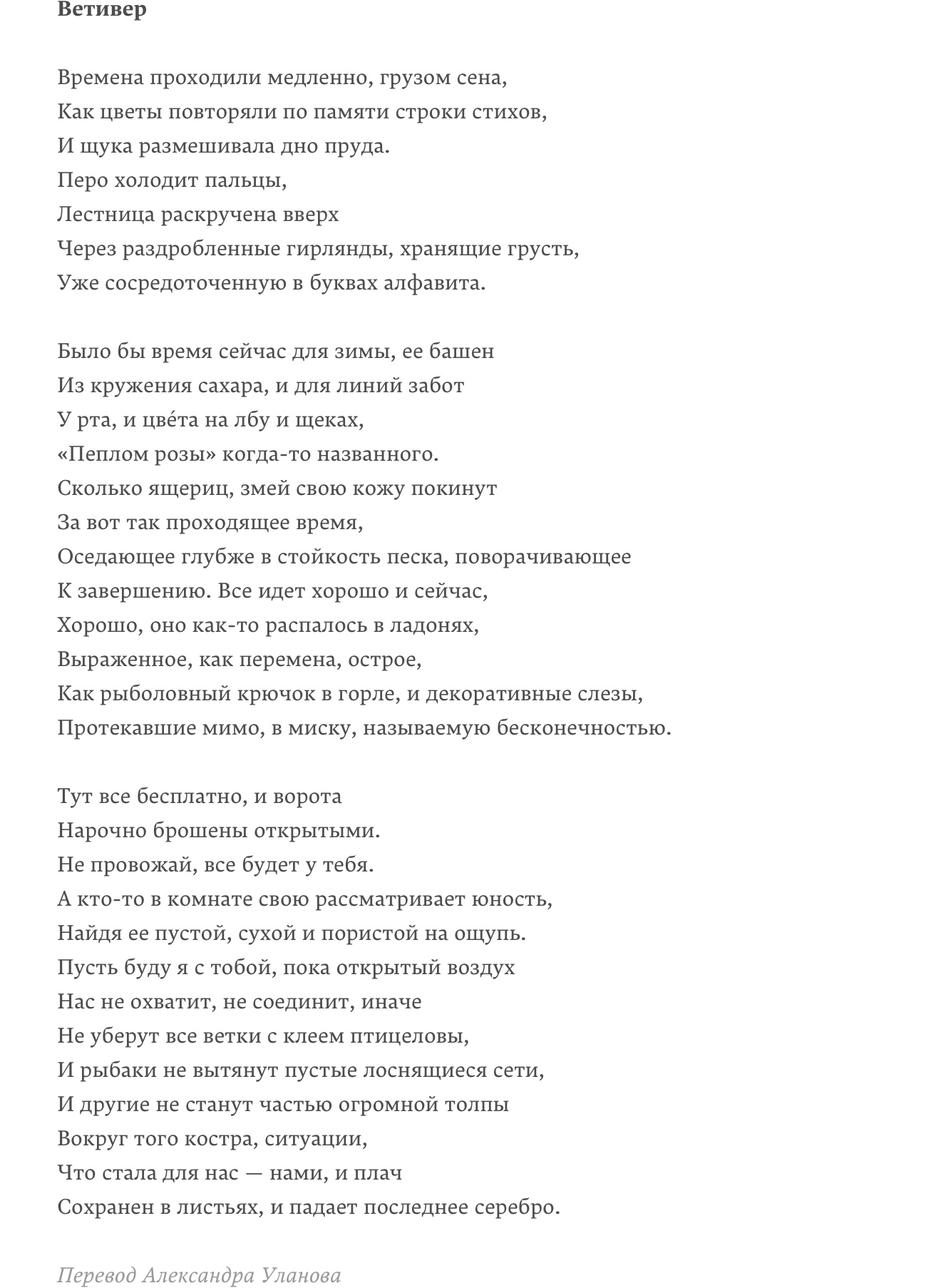
И не беда, что тяжелеют вдруг ноги, что голову свою поднять уже трудно, зато покажется нам жизнь тогда лёгкой. То не беда, что встать уже нельзя с ложа: гляди — вокруг, прекрасны и хмельны, девы. Не встать им тоже и мужчин поднять трудно, но волей неба всё ж восстанет здесь нечто. Вакханки юные подарят нам песни, а мы им — сладкий хмель и юный жар тела.
Прекрасен пир и дев младых любовь ночью. Так в чём же вина моя перед Тобой? Ничем пред Тобою я не согрешил. Душа из меня вытекает слезой.
Зачем испытать Ты Иова решил? Не знаю, какая великая мысль На дело такое подвигла Тебя, Но думаю: тех, кто Тобою полны, Ты должен беречь и лелеять, любя. И я не боюсь, что Ты пени мои услышишь — скрывал ли я что пред Тобой? Ты некогда благословил мои дни, а ныне душа вытекает слезой.
Какой же в том смысл, что, из недр изойдя, вкусив от блаженства, греха не познав, я вынужден плакать, о том лишь скорбя, что стал я игрушкой Господних забав? Ведь не даром все девушки из-за любви на тебя поглядеть, приоткрывшись, не смеют.
Что ж, я тоже красива — свидетель Салим: не гляди, что смугла — меня солнце согрело. Прогневила я братьев: служила я им, виноградник же свой уберечь не сумела. Ты, мой милый, как ладанка с миррой на мне, что ночует меж грудями ночью погожей.
Нам стена — кипарис, крыша — кедр в вышине, и трава нам зелёная — мягкое ложе. Тут нашла я с тобой пирования дом. Надо мною любви твоей жаркое знамя. Освежите меня, подкрепите вином — от любви к Соломону я изнемогаю! А в кольце его рук возрождаюсь я вновь. Заклинаю вас, девушки Ерусалима, не будите пока, не будите любовь, пусть подремлет еще на вершинах лавина! Встань же, прекрасная, встань, моё счастье, выйди ко мне, ведь зима отступила, и миновало сырое ненастье: птицы запели, цветы распустились.
О, ты прекрасна в тени своей спальни: кудри твои — словно козочек стадо, зубы — как белые овцы в купальне, губы — как алая лента, отрада! Шея твоя — как Давидова башня, груди твои — словно двойня газели. Лишь на улице встретила снова того, кого в сердце своём я навек поселила. Привела его в дом, обняла его вновь… Заклинаю вас, девушки Ерусалима, не будите пока, не будите любовь: сон любви очень хрупкий, легко уязвимый. Поднялась я, чтоб милому двери открыть — мирра с пальцев моих полилась на засовы.
Отворила я дверь, чтоб его пригласить, но его не нашла — не дождался он снова. Где живёт он и скрылся опять почему — я не знаю, — о девушки, вас заклинаю, если встретится вам, то скажите ему: от любви к Соломону я изнемогаю! Аромат мандрагоров пьянит, словно дым.
Вот плоды: это то, что тебе берегла я. Напою тебя, милый, вином я своим — пей, гранатовым соком моим запивая! О, в кольце твоих рук возрождаюсь я вновь. Заклинаю вас, девушки Ерусалима, что ж так рано вы будите, девы, любовь? Страшна преисподняя — ревность к любимым, а стрелы её — как огонь, эти стрелы. И испепелит тот огонь негасимый, настигнет в заоблачных даже пределах. И воды большие любви не затушат, и реки её затопить не сумеют.
Любовь — это больше, чем жизни и души, и с нею расстаться намного труднее. Что было — то опять свершится много раз, нет в мире новизны, все это было прежде. Нет памяти о том, что было раньше нас, забудут и о нас грядущие невежды. Решил я испытать весь мир умом своим и видел все дела на нашем буйном свете.
Но все это — ничто: увидел я лишь дым, увидел суету, увидел ловлю ветра. Кривое ль распрямить? И я решил вкусить от глупости и знанья, но в них увидел я одну лишь суету,. В делах не торопись, и все слова твои неспешными всегда, немногими да будут. Пусты и мысли там, где головы пусты, а тщетные слова мечтанья лишь разбудят. Увидишь ли ты гнёт в своей родной стране, нечестие в суде иль извращенье правды, не думай, что над сим неправды уже нет: она и выше есть, и выше тоже, право!
Работнику дает Господь хороший сон, поел ли сытно он иль малую крупицу. Богатый, хоть и ел, да не работал он, и сытость не даёт ему во сне забыться.
Богатство — злой недуг. А что оно даёт? Хоть каплю унесёт богач с собой в могилу? Как наг пришёл сюда — нагим же и уйдёт, и жизнь его — лишь страх, и злоба, и бессилье. И есть под солнцем зло: разумные в пыли, а глупые вверху и ими управляют. Посты — для дураков, и почести для них. Без почестей внизу достойный пребывает. И видел я рабов, что едут на конях, и видел я князей, пешком идущих рядом….
И остается лишь покорно нам идти, над головой своей опасность ощущая. Порвется шнур тогда серебряный, и вот златая чаша вдруг расколется на части, и ветер у ключа кувшин твой разобьёт, и прокричит журавль колодцу о несчастье….
И возвратится прах, как и любой из нас, в ту землю, коей был до своего рожденья.
Все суета сует,- сказал Экклесиаст, — все суета сует и духа лишь томленье. Ели наши праотцы в пустыне манну, но настигла всех их смерть. Хлеб же сей, который сходит с неба ныне, вам не даст вовеки умереть. Я же буду в них живой и сущий — в человеках — Богочеловек.
Вот Араратская долина. А над нею лежит, чуть розовея, Ереван. Над ним — хребты огромной серой тенью, над ними — синим пятнышком — Севан.
Церквушки там над озером чернеют, над ними — голубые небеса, а в небе, словно сказочная фея, белеет облака летучая краса. Не допусти, о Боже, чтобы струпья не на ногах, а на душе лежали, когда я снова стану на колени! А расписал меня хозяин мой — художник. Все говорили: Гойя — сумасшедший, развратник, якобинец и безбожник. Я только дом, и я не размышляю, но то, что есть я — истина из истин. Пусть люди входят, смотрят и выходят: я — зеркало, а не творенье кисти.
Звенит, трепещет колокольчик, и рвутся скрипка и душа, и замирают, не дыша, чтоб зазвенеть, как колокольчик. Чего — не знаю — всё же больше в его тоске?
Не мне решать: исходит звоном колокольчик и скрипкой плачется душа. Это пёстрый маскарад, бешеные ритмы: все снуют вперед-назад, хохот, плач, молитвы…. Постепенно этот шум обретает стройность: слышен колокольный гул, мерный и спокойный. День последний… слышен звон сверху, справа, слева. Возвещает людям он день святого гнева. Ты над миром царишь полусонным, охраняя покой на земле. Мягким светом твоим освещенный, спит весь мир, доверяясь тебе.
Ты своё затаила дыханье и внимаешь, как дышит земля. И простёрла ты мудрые длани над священной Рекой Бытия…. Одних она не жалует, и к ним приходит по три раза на день кряду. Зато она благоволит к другим — то ль восхищаясь, то ли от досады.
И умирают первые не раз, а по три раза на день, не смекая, что что-то в них закончилось сейчас — любовь святая, мука ли благая. Другие лишь однажды отдают любовь свою, надежду, боль и веру, Самим себе устраивают суд и судят строго и не лицемеря.
Подарки принимая, Смерть даёт за этот суд им высшую награду — и тот, кто умер — возродится тот. Награды лучшей и желать не надо. А предающий каждый день смертям свои мечты и радости и страхи — землёю будет взят когда-то сам, и станет жалким и ненужным прахом.
Иные же, рождаясь вновь и вновь, исчезнув, станут вездесущей тенью, И в людях возродятся их Любовь, и Вера, и Надежда, и стремленья. Закончился чумной болтливый день, и явственно теперь я ощущаю, как яблоня в саду благоухает, кокетничает скромница-сирень.
Опять луны безумствует орган. О, как его хоралы дивно-зыбки! И звезд слышны тонюсенькие скрипки, и саксофонит ветер-интриган. Весь мир поет. Пока еще апрель, но буйство зелени уже в разгаре: сирень звучит свирелью на бульваре, и яблони слышна виолончель.
И под сурдинку шелестит листва, и всё полно звучанием и страстью, и мы опьянены чудесной властью так, что кружится даже голова. Ночной концерт безумства и любви, горчащей правды, сладостной ошибки… Да здравствуют шальные звезды-скрипки!
Сирень — бесстыдницу, Господь, благослови! Где море, как атлас, чернея, блещет, вздыхает, молится, немотствует, зовет, тревожится, топорщится, трепещет, в порыве страсти пеной обдает,. Чужого языка чужие звуки застыли на бумаге, словно м о й чудесный сон, не знающий разлуки с тем, что я видел на земле родной:.
Мицкевича читаю, и меж строчек; которые как будто сам писал, встают опять алуштинские ночи и бьётся в Адалары пенный вал. Цветёт миндаль и тонет в море парус, объемлет горы саван облаков… Читаю — и стучится в сердце радость, как будто это м о й сонет готов. Нет времени! Над временем поэты. Ничто не в силах пред сонетом устоять: как век назад — зимой бушует лето, волна приходит и стремится вспять. Соединил Изольду и Тристана, чтоб поднялась над бытием любовь, куст алой розы — алой, словно кровь героев вечных этого романа.
Возрос своим чудесно стройным станом над целым миром куст, который вновь соединил Изольду и Тристана, чтоб поднялась над бытием любовь. Поэты России, во все времена ловили всечасно вы взгляды косые. Но чем знаменита родная страна? Не вы ль — её гордость, поэты России? Державин, одетый в роскошный мундир, отец всех пиитов поэзии новой, — царям объяснял он с улыбкою мир, но был для царей лишь хороший чиновник. Бестужев от пули чеченца погиб, Крылов был в опале, Рылеев повешен, Козлов был параличем страшным разбит, в Сибири чахоткой убит Кюхельбекер.
А Батюшков славный, сошедший с ума? А скорбный Михайлов в сибирской могиле? Григорьеву — голод, долги и тюрьма, Плещееву — каторга жизнь отравила. Вину на него теперь просто свалить, назвать драчуном, пасквилянтом — Поэта. Одоевский был малярией сражён, когда на Кавказ его тоже сослали, был Бунин в далёкой земле погребён, Сибирью больной Мандельштам был раздавлен.
Заставить Некрасова честью своей вразнос торговать, и обречь Огарёва чужбине отдать весь огонь его дней — пожалуй, всё это для русских не ново. Но мыслимо ль было, чтоб русский поэт искал себе выгоду, райские кущи? Для тех, кто увидел грядущего свет — вся жизнь не сегодня, а только в грядущем.
Куда он отбыл, мир оставив сущий? Где созерцает он финал мистерий? Он освещает ад печальным светом иль омрачает рай тоской потери? Он был из тех, чьим тягостным секретом уменье было — дать, не получая.
Таким же тяжело на свете этом,. Он родину воспел, но был отвергнут, от ностальгии в старости страдая. Он рыцарем влюблённым был и верным, но, посвящая Беатриче свою лиру, стал всем несчастным рыцарям примером…. Блаженствуя, живёт он не бесцельно: он целей достигает неизменно и не желает выси запредельной.
Но не такие истинно блаженны. Подстать Творцу лишь гении, таланты. Они определяют жизнь Вселенной. Вой осенних ветров безучастен. Был доставлен какой-то отпетый в некий госпиталь полураздетым: он в осеннем разгуле ненастья найден был без сознания где-то и скончался в три дня без причастья.